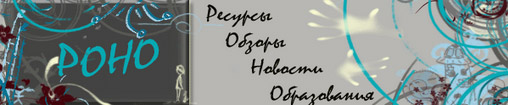|
|
Личность учителя – личность ученика. Вспоминая минувшее.
|
Авторcтво: Столярова Ирина Владимировна, доктор филологических наук, профессор СПбГУ |
Личность учителя - личность ученика. Вспоминая минувшее Наверное, это давно стало аксиомой: личность учителя – самый важный фактор в процессе влияния школы на становление личности ученика. К такому пониманию вещей непосредственно подводит каждого из нас собственный жизненный опыт, вынесенный из далекого детства.
Когда спустя много лет после окончания школы мы встречаемся со своими одноклассниками, то, прежде всего, вспоминаем их, своих учителей, их характеры, привычки, стиль поведения, уроки, столь многое определившие в нас самих. 
Я поступила в школу в Ленинграде в канун войны: через год она началась, круто все изменив. Уехав, как обычно, на лето в деревню, на родину папы, я с маленьким братом и бабушкой неожиданно оказалась надолго оторванной от родителей и от всей былой городской жизни. Много было трудного: всем нам не хватало тогда еды, одежды, школьных тетрадей. Письменные задания мы выполняли обычно на полях старых ненужных книг, домашние уроки готовили по домам при свете коптилок. Мы, приезжие, в просторечии «ковыренные» (от слова «эвакуированные») ходили в школу в одежде не по росту, порой в резиновых мужских сапогах, довольствуясь тем, что случайно находилось в избе. И тем не менее я вспоминаю теперь эти военные и первые послевоенные годы тепло. Мне очень повезло с учителями, которых я встретила тогда и в небольшой районной школе в Борисоглебе, древнем поселке Ярославской области, а по возвращении из деревни – и в Ленинградской двадцать первой школе Васильевского острова. О некоторых из этих учителей, оставивших большой след в душе, я и хочу рассказать.
Нина Петровна Мурикова учила нас в Борисоглебе со второго по четвертый класс. Совсем незадолго до этого в Ленинграде мама за руку водила меня в школу, которая находилась на соседней линии, совсем недалеко от нашего дома. Теперь мне приходилось темным осенним или зимним утром идти в класс одной или, если повезет, с небольшой гурьбой опальневских ребят. Шли мы два с половиной километра сначала заснеженным полем (после зимней пурги дорога нередко терялась), а потом сосновым лесом. Из-за недостатка дров наша школа, помещавшаяся тогда в старой, утлой избушке, очень плохо отапливалась. По утрам нередко замерзали чернила в чернильницах, мы усаживались за парты в пальто, всем нам все время хотелось есть, но приходила наша любимая учительница Нина Петровна, и жизнь сразу принимала другую окраску. У самой Нины Петровны в это время на руках было трое детей, осиротевших в войну. Кроме козы, никакой другой живности у нее не было, но она не ушла с головой в свои беды, не замкнулась и не ожесточилась. В самые большие морозы, когда руки стыли и писать становилось невозможно, она собирала нас у большой кафельной печки, в которой все-таки теплилось несколько полешек, и рассказывала (не читала, а именно рассказывала) нам сказки одну за другой, - такие интересные, что мы готовы были слушать их без устали. Это были замечательные часы, и холод и голод отступали. Я с раннего детства любила читать, многие сказки давно мне были знакомы, но такого удовольствия от погружения в их мир, которое мы переживали в холодном классе, слушая, как «сказывает» нам сказку Нина Петровна, я больше никогда не испытывала. Главное – мы живо чувствовали, что наша учительница всех нас любит и хочет согреть и потешить.
В этой связи мне хочется вспомнить один «драмо-комический» эпизод, героем которого оказалась тогда я сама. Многие наши ребята научились делать бумажные гармошки из вырванного тетрадного листа. Чтобы это получилось, надо было много раз согнуть на определенный манер вчетверо сложенный лист, а потом надуть получившуюся из него гофрированную коробочку. Мне страшно захотелось тоже преуспеть в этом искусстве, поэтому прямо на уроке, опустив голову ниже края парты, выпучив глаза, чтобы следить за движениями Нины Петровны, не приближается ли она к моей парте, я начала надувать свое изделие. Старалась изо всех сил уже не как «гармонист», а как трубач, усердно надувающий свои щеки. Видимо, при этом недозволенном занятии я еще и здорово покраснела, и тут-то Нина Петровна вдруг на меня и взглянула. Сразу же на весь класс раздался ее вопль: «Ириночка, что с тобой?» Так могла вскрикнуть мать, страшно испугавшаяся вдруг за своего ребенка. Еще не поняв, в чем дело, Нина Петровна бросилась ко мне, обняла, а я пережила тогда минуту страшного стыда, до сих пор памятного мне во всей остроте.
Сколько интересных утренников придумывала для нас Нина Петровна! Сколько книжек из прекрасной тогда по составу школьной библиотеки вложила нам в руки при подготовке к нашим концертам, как следила потом на репетициях за верностью наших интонаций! Не случайно именно на ее уроке в четвертом классе в сочинении на тему: «Кем я хочу быть?» я вдруг заявила, что хочу стать литературоведом. Обнаружив у себя это детское сочинение много - много позже, я сама удивилась тому, что так рано пришла мне в голову эта мысль. И где только подхватила я тогда само это слово «литературовед»?
 Зимой 1944 г., когда война уже подходила к концу, мы с братом, бабушкой и приехавшей к нам мамой все вместе вернулись в Ленинград. Я снова поступила учиться в свою первую школу, только она располагалась теперь в помещении университетского филфака. С тех пор это его крыло так и называется школой, а мы позднее переехали в свое старое здание на 5-ой линии. Перемена по моем возвращении в ленинградскую школу была очень резкой: новые учителя, новые требования, новое ребячье окружение (школа была женской). Привыкать ко всему этому было трудно, но все же я довольно быстро освоилась с ребятами, а среди учителей оказались люди поистине замечательные. Это наш историк Софья Александровна Малиновская, человек чрезвычайно большой культуры, привлекавшая к себе благородством и своего внешнего облика. В своей молодости она училась на высших женских курсах, много путешествовала, побывала на раскопках в Греции и Италии. На наши уроки по древней истории она нередко приносила с собой собранные там камешки, и у нас возникало ощущение собственного прикосновения к этой легендарной земле. В наши школьные годы Софья Александровна был уже пожилым человеком полной комплекции, приземистым, одетым в широкие блузы, но лицо ее, открытое, покойное, с высоким чистым лбом, при первой же встрече с ней порождало у нас ощущение значительности личности, причем личности другого культурного слоя, чем тот, к которому принадлежишь ты сам, и, казалось, другого века. Предмет, который она вела, удивительно шел к ней. У нее вообще были какие-то свои отношения со временем, благодаря которым для нее словно и не существовало никаких зияний между эпохой античности и той, в которой жили мы. Она рассказывала нам о Древней Греции как живой соглядатай ее жизни. Ее рассказы завораживали нас настолько, что нам казалось даже, что после них нет нужды «учить» историю: история «сама» входила на этих уроках в нашу жизнь, в наше воображение, память. Зимой 1944 г., когда война уже подходила к концу, мы с братом, бабушкой и приехавшей к нам мамой все вместе вернулись в Ленинград. Я снова поступила учиться в свою первую школу, только она располагалась теперь в помещении университетского филфака. С тех пор это его крыло так и называется школой, а мы позднее переехали в свое старое здание на 5-ой линии. Перемена по моем возвращении в ленинградскую школу была очень резкой: новые учителя, новые требования, новое ребячье окружение (школа была женской). Привыкать ко всему этому было трудно, но все же я довольно быстро освоилась с ребятами, а среди учителей оказались люди поистине замечательные. Это наш историк Софья Александровна Малиновская, человек чрезвычайно большой культуры, привлекавшая к себе благородством и своего внешнего облика. В своей молодости она училась на высших женских курсах, много путешествовала, побывала на раскопках в Греции и Италии. На наши уроки по древней истории она нередко приносила с собой собранные там камешки, и у нас возникало ощущение собственного прикосновения к этой легендарной земле. В наши школьные годы Софья Александровна был уже пожилым человеком полной комплекции, приземистым, одетым в широкие блузы, но лицо ее, открытое, покойное, с высоким чистым лбом, при первой же встрече с ней порождало у нас ощущение значительности личности, причем личности другого культурного слоя, чем тот, к которому принадлежишь ты сам, и, казалось, другого века. Предмет, который она вела, удивительно шел к ней. У нее вообще были какие-то свои отношения со временем, благодаря которым для нее словно и не существовало никаких зияний между эпохой античности и той, в которой жили мы. Она рассказывала нам о Древней Греции как живой соглядатай ее жизни. Ее рассказы завораживали нас настолько, что нам казалось даже, что после них нет нужды «учить» историю: история «сама» входила на этих уроках в нашу жизнь, в наше воображение, память.
Другим прекрасным учителем была математик Александра Дмитриевна Платунова. С первых школьных шагов наибольший интерес я проявляла к гуманитарным предметам, но не отозваться на самозабвенную увлеченность Александры Дмитриевны математикой как самой замечательной из всех наук было невозможно. На каждом уроке она не просто знакомила нас с каким-то новым разделом алгебры или геометрии, не просто учила решать задачи, вести доказательство теорем: всякий раз Александра Дмитриевна не переставала искренне восхищаться строгой чеканностью математических формул, красотой логических ходов, ведущих ближайшим путем к решению сложных задач. Вскипавшее в ее душе на наших глазах воодушевление оказывалось для нас самих новой и желанной заразительной радостью. Порой мы сами вырастали в собственных глазах, когда нам удавалось вдруг найти нетривиальное, «красивое» решение поставленной задачи. Я навсегда запомнила Александру Дмитриевну стоящей у задней стены класса и зорко наблюдающей, как идет работа на доске у вызванной ею ученицы. «Да… да… так…», – время от времени роняла она, а потом вдруг решительно большими шагами шагала к доске, перехватывала мел из рук ученицы в свои руки и, ликуя, предлагала вдруг совсем другой путь решения: «А можно и по-другому!...». Тут же мы все вместе решали, какой путь привлекательней, интересней. Именно Александра Дмитриевна была одной из тех, кто открыл нам особого рода радости, радости интеллектуального труда, преодоления инертности своего мышления, привычки к использованию стандартных подходов и решений. Наиболее «продвинутых» из нас (к сожалению, я никогда не была в их числе, хотя училась хорошо) Александра Дмитриевна брала с собой на матмех, на лекции самых выдающихся в то время университетских профессоров, и тогда и она, и наши будущие универсанты (под влиянием Александры Дмитриевны они поступили потом на матмех и физфак) становились соучастницами замечательных интеллектуальных пиршеств. Огромное спасибо Александре Дмитриевне за то, что она ввела нас в заповедную сферу возможной человеческой деятельности, деятельности в сфере абстрактного мышления! Но породниться с точными науками в отличие от своих подруг я не смогла. Для моего самоопределения решающую роль сыграли уроки Лилии Львовны Бианки, учительницы русского языка и литературы в старших классах нашей школы..
 Лидия Львовна была учителем по Призванию, Учителем Божьей милостью, для нее заниматься с нами было как дышать. Какими насыщенными ни были ее уроки, у нас почти не возникало ощущения, что она нас учит, чаще казалось, что она просто беседует, делится с нами тем, что важно, интересно и дорого ей самой, приглашая нас к соучастию в этих удовольствиях и размышлениях. Порой уроки были лекциями, которые мы быстро научились конспектировать, что впоследствии очень пригодилось мне в университете. Учебником для подготовки к ответам на уроке или к написанию сочинений мы никогда не пользовались, его вполне заменяли нам занятия с Лидией Львовной и книги, о которых шла речь на этих уроках. Очень важным моментом наших занятий всегда было чтение нового текста, особенно если этот текст был поэтическим. Лидия Львовна читала нам очень много стихотворений Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Многие из них мы навсегда запомнили прямо с ее голоса, с ее интонациями, которые казались нам единственно возможными. Сколько бы я потом ни перечитывала эти стихи, они всегда звучат для меня так, как тогда. Если приходил наш черед читать на уроке стихи тех же поэтов, обязательным условием такого чтения был собственный выбор текста. Мы любили эти задания, требующие немалой домашней работы. Лидия Львовна была учителем по Призванию, Учителем Божьей милостью, для нее заниматься с нами было как дышать. Какими насыщенными ни были ее уроки, у нас почти не возникало ощущения, что она нас учит, чаще казалось, что она просто беседует, делится с нами тем, что важно, интересно и дорого ей самой, приглашая нас к соучастию в этих удовольствиях и размышлениях. Порой уроки были лекциями, которые мы быстро научились конспектировать, что впоследствии очень пригодилось мне в университете. Учебником для подготовки к ответам на уроке или к написанию сочинений мы никогда не пользовались, его вполне заменяли нам занятия с Лидией Львовной и книги, о которых шла речь на этих уроках. Очень важным моментом наших занятий всегда было чтение нового текста, особенно если этот текст был поэтическим. Лидия Львовна читала нам очень много стихотворений Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Многие из них мы навсегда запомнили прямо с ее голоса, с ее интонациями, которые казались нам единственно возможными. Сколько бы я потом ни перечитывала эти стихи, они всегда звучат для меня так, как тогда. Если приходил наш черед читать на уроке стихи тех же поэтов, обязательным условием такого чтения был собственный выбор текста. Мы любили эти задания, требующие немалой домашней работы.
Русскую классику в то время выпускали как правило большими однотомниками. Зароешься на весь день в такую огромную книгу, чтобы назавтра выучить не какое-нибудь хрестоматийно известное стихотворение, а то, что не особенно на виду, но именно оно наиболее близко тебе по своему эмоциональному строю. Выслушивая нас, Лидия Львовна всегда очень непосредственно реагировала на сделанный выбор: даже не словом, а чаще всего выражением лица, легкой шутливой гримасой, ясно передающей согласие или несогласие, удовольствие или озадаченность. Это было и игрой и одновременно самым доверительным нашим общением.
 Недавно я обнаружила в своем старом дневнике запись своих впечатлений от уроков Лидии Львовны, приведу эти странички, хотя мне и немножко совестно за некоторую экзальтацию своего юношеского тона. Поясню, что эта запись сделана мной полгода спустя после окончания школы, когда мне, уже студентке филфака, захотелось вспомнить своих любимых учителей. Недавно я обнаружила в своем старом дневнике запись своих впечатлений от уроков Лидии Львовны, приведу эти странички, хотя мне и немножко совестно за некоторую экзальтацию своего юношеского тона. Поясню, что эта запись сделана мной полгода спустя после окончания школы, когда мне, уже студентке филфака, захотелось вспомнить своих любимых учителей.
«Лидия Львовна…Я всегда буду помнить ее подвижное выразительное лицо, которое то страдальчески морщится при плохих ответах, то расцветает во время хороших, то есть самостоятельных, «с изюминкой». Она вся в уроке, живом, захватывающем и все твое существо, заставляющем тебя думать вместе с ней… Я помню урок, когда Лидия Львовна, стоя у моей парты (я так любила, когда она подходила именно к ней!) говорила нам о Татьяне Лариной. Глаза Лидии Львовны теплились и были устремлены куда-то вдаль. Правая рука вытянута вперед с открытой ладонью, как будто там, очень близко от себя она видела Татьяну и любовалась ею.
О каждом литературном герое она рассказывает так, как будто о родном, а за ней и мы начинаем чувствовать его себе сродни. Лидия Львовна очень любит завести спор на уроке, выслушать всех и только потом заключить обсуждение самой. Однажды на уроке о «Поднятой целине» у нас поднялся такой гвалт, что в класс ворвалась директриса, решив, что мы безобразничаем, оставшись одни, без учителя, но мы просто увлеклись спором. Я помню также дискуссию о женских образах в западной литературе и русской. И тут во время этого стихийно возникшего разговора Лидия Львовна поразила нас своей эрудицией, логичностью мысли, ее оригинальностью. В наших сочинениях она хотела видеть нечто подобное, и поэтому отметки ее многим казались слишком строгими. Она терпеть не могла, когда в сочинении «не было ничего своего», и в таком случае ставила только тройку.
К нашему классу она относилась с явным расположением, хотя это не умаляло ее взыскательности и строгости в оценках. Мы любили поговорить с Лидией Львовной, особенно в перемену или после уроков. Мне запомнился один такой разговор о жизни. Лидия Львовна очень довольна, что стала учителем. Она не скрывает того, что в учительской работе есть элемент повторения, но в какой его нет? И в то же время работа учителя творческая, всякий раз он ищет новых путей, новых образов, новых доказательств своего взгляда….».
Одними из самых интересных уроков Лидии Львовны были для нас те, на которых происходил разбор наших сочинений. С замиранием сердца мы ждали объявления оценки, но главным все же было не это, а то, что скажет Лидия Львовна о твоей работе. В ходе анализа сочинений она всегда чутко отзывалась на любое проявление нашей самостоятельности, будь то неожиданный поворот предложенной темы, или свое истолкование изображенной конфликтной ситуации, или удачная характеристика мироощущения героя. Никогда не скрадывались удачи, имевшие место даже в неровно написанных работах, удачи в отдельной части сочинения или даже на малом пространстве одной фразы. «Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя…», – извечный тютчевский вопрос стоял и перед нами, несмотря на наш юный возраст. Заново вникая в свои работы, мы учились искусству высказывания, радовались, когда что-то получалось, когда удавалось преодолеть свое «немотство», найти нужные слова. Лидия Львовна щедро цитировала понравившиеся ей места, а о недостатках обычно у нее шел разговор один на один с автором.
Известный деятель шестидесятых годов Н.И.Пирогов в работе «Вопросы жизни», опубликованной вначале в ведомственном сборнике, а потом во множестве копий разошедшейся по всей России, писал, что главное дело школы – не в том, чтобы дать ученику запас конкретных знаний в той или иной области, а воспитать его личность, подвигнуть его к размышлению над самыми большими и сложными вопросами жизни, приуготовить его к осознанию своего призвания. Уроки Лидии Львовны служили именно этой задаче развития нашего самосознания, способности к выбору своего пути – духовного и профессионального.
По окончании школы в значительной степени именно под влиянием Лидии Львовны я и решила поступать на филфак университета. В то же время зависимость моего выбора от уроков Лидии Львовны была так велика, что я мучилась сомнениями, имею ли я внутреннее право на такой шаг. Может быть, это вовсе и не я, а Лидия Львовна так любит литературу, а я свечусь отраженным светом и по-ученически вторю ее пристрастиям. Но все же выбор был сделан, и я поступила. Лучшим днем на первых университетских экзаменах для меня был день первого экзамена по специальности. Выслушав мой ответ о западниках и славянофилах, построенный в значительной своей части на одной из школьных лекций Лидии Львовны, В.Я. Пропп спросил меня, у кого я училась? И тут уж со всем юношеским пылом я рассказала ему о своем Учителе...

Поделиться:
|
|